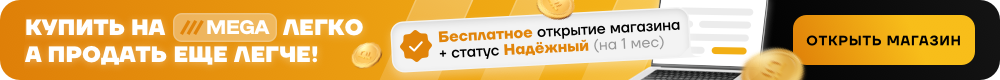В голове — Гегель и рассуждения о душе. В руках — тремор и 404.

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали сразу два материала в Science Robotics, где поставили под сомнение самые смелые прогнозы о скором появлении универсальных гуманоидов . Руководитель исследований, робототехник Кен Голдберг, считает, что роботы не смогут повторить путь языковых моделей, которые благодаря огромным корпусам текстов вышли в массовое использование за считанные годы. Для овладения физическими навыками им нужна несоизмеримо более богатая база данных, которой пока просто не существует. По его оценке, разрыв составляет 100 000 лет в терминах эквивалентных объёмов информации.
Главный аргумент Голдберга — именно физическая манипуляция предметами остаётся непреодолимым барьером. Для человека поднять бокал или заменить лампочку — дело секунд. Но для робота это цепочка из точного распознавания положения объекта, правильного расположения кончиков пальцев, регулировки силы контакта и непрерывной обратной связи. Всё это чрезвычайно сложно формализовать. Попытки учить роботов по интернет-видео мало помогают: двухмерная картинка не передаёт нужных трёхмерных траекторий, усилий и микродвижений. Симуляции хорошо справляются с бегом или акробатикой, но не переводятся в аккуратную работу руками — будь то слесарь, электрик или повар. Даже телеприсутствие, когда оператор напрямую управляет машиной, генерирует данные лишь в реальном времени: восемь часов работы дают ровно восемь часов материала, что несравнимо с потоками текста для LLM.
В сообществе робототехники идёт спор о том, что важнее: просто накопить больше данных или опираться на классическую инженерию — математику, физику и явные модели мира. Голдберг предлагает компромисс: создавать узкоспециализированных роботов, достаточно надёжных для конкретных задач, и именно в процессе эксплуатации собирать нужный объём информации. Такой путь уже работает у Waymo, чьи автономные автомобили ежедневно пополняют базы данных, и у Ambi Robotics, где сортировочные машины в складах улучшаются по мере использования.
Говоря о перспективах, исследователь скептически относится к прогнозам о том, что через пять лет роботы превзойдут хирургов. По его мнению, за ближайшие два, пять и даже десять лет не стоит ждать массового появления универсальных гуманоидов. При этом он отмечает, что синие воротнички долгое время остаются в безопасности именно благодаря сложности мелкой моторики и адаптивности, а вот рутинные офисные процессы или заполнение форм могут быстрее подвергнуться автоматизации на основе языковых моделей. В медицине же или службе поддержки важна эмпатия: автомат не может убедительно сказать «я понимаю, что вы чувствуете», и уж тем более — сообщать трагические новости пациентам.
Ограничение связано не только с алгоритмами, но и с телом. Несмотря на впечатляющие демонстрации Boston Dynamics, Figure или Tesla, многие гуманоиды двигаются жёстко и энергозатратно. Sony недавно призвала уделить внимание новым типам суставов и гибким конструкциям. Британский исследователь Хамед Раджаби также указывает, что нынешние роботы сжигают слишком много энергии и требуют постоянных корректировок, так как их железо лишено встроенной механической адаптивности. Случаи, когда машины перегреваются или падают на соревнованиях, лишь подчёркивают эту проблему.
Посыл Голдберга не в том, что прогресс невозможен, а в том, что он требует трезвой оценки. Настоящие прорывы рождаются на стыке данных, управления и физического дизайна. Чтобы не загонять отрасль в новый пузырь, нужно держать внимание на будничной инженерии, пошаговых экспериментах и постепенном внедрении. Только так роботы смогут выйти из лабораторных демонстраций и превратиться в устойчивый инструмент, которому доверяют в реальной работе.
Учёные из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали сразу два материала в Science Robotics, где поставили под сомнение самые смелые прогнозы о скором появлении универсальных гуманоидов . Руководитель исследований, робототехник Кен Голдберг, считает, что роботы не смогут повторить путь языковых моделей, которые благодаря огромным корпусам текстов вышли в массовое использование за считанные годы. Для овладения физическими навыками им нужна несоизмеримо более богатая база данных, которой пока просто не существует. По его оценке, разрыв составляет 100 000 лет в терминах эквивалентных объёмов информации.
Главный аргумент Голдберга — именно физическая манипуляция предметами остаётся непреодолимым барьером. Для человека поднять бокал или заменить лампочку — дело секунд. Но для робота это цепочка из точного распознавания положения объекта, правильного расположения кончиков пальцев, регулировки силы контакта и непрерывной обратной связи. Всё это чрезвычайно сложно формализовать. Попытки учить роботов по интернет-видео мало помогают: двухмерная картинка не передаёт нужных трёхмерных траекторий, усилий и микродвижений. Симуляции хорошо справляются с бегом или акробатикой, но не переводятся в аккуратную работу руками — будь то слесарь, электрик или повар. Даже телеприсутствие, когда оператор напрямую управляет машиной, генерирует данные лишь в реальном времени: восемь часов работы дают ровно восемь часов материала, что несравнимо с потоками текста для LLM.
В сообществе робототехники идёт спор о том, что важнее: просто накопить больше данных или опираться на классическую инженерию — математику, физику и явные модели мира. Голдберг предлагает компромисс: создавать узкоспециализированных роботов, достаточно надёжных для конкретных задач, и именно в процессе эксплуатации собирать нужный объём информации. Такой путь уже работает у Waymo, чьи автономные автомобили ежедневно пополняют базы данных, и у Ambi Robotics, где сортировочные машины в складах улучшаются по мере использования.
Говоря о перспективах, исследователь скептически относится к прогнозам о том, что через пять лет роботы превзойдут хирургов. По его мнению, за ближайшие два, пять и даже десять лет не стоит ждать массового появления универсальных гуманоидов. При этом он отмечает, что синие воротнички долгое время остаются в безопасности именно благодаря сложности мелкой моторики и адаптивности, а вот рутинные офисные процессы или заполнение форм могут быстрее подвергнуться автоматизации на основе языковых моделей. В медицине же или службе поддержки важна эмпатия: автомат не может убедительно сказать «я понимаю, что вы чувствуете», и уж тем более — сообщать трагические новости пациентам.
Ограничение связано не только с алгоритмами, но и с телом. Несмотря на впечатляющие демонстрации Boston Dynamics, Figure или Tesla, многие гуманоиды двигаются жёстко и энергозатратно. Sony недавно призвала уделить внимание новым типам суставов и гибким конструкциям. Британский исследователь Хамед Раджаби также указывает, что нынешние роботы сжигают слишком много энергии и требуют постоянных корректировок, так как их железо лишено встроенной механической адаптивности. Случаи, когда машины перегреваются или падают на соревнованиях, лишь подчёркивают эту проблему.
Посыл Голдберга не в том, что прогресс невозможен, а в том, что он требует трезвой оценки. Настоящие прорывы рождаются на стыке данных, управления и физического дизайна. Чтобы не загонять отрасль в новый пузырь, нужно держать внимание на будничной инженерии, пошаговых экспериментах и постепенном внедрении. Только так роботы смогут выйти из лабораторных демонстраций и превратиться в устойчивый инструмент, которому доверяют в реальной работе.
- Источник новости
- www.securitylab.ru